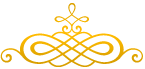Политика гонений на церковь, проводимая коммунистами в годы безбожия, предполагала прежде всего репрессии в отношении её служителей, многие из которых оказались в тюрьмах и лагерях. Не стали исключением и знаменитые Псковские старцы-иереи – Иоанн Крестьянкин, Николай Гурьянов, Борис Николаев. Приводим их воспоминания о тех страшных годах…
«Меня согревала молитва Иисусова»
Протоиерей Николай Гурьянов (24.05.1909-24.08.2002),
служил настоятелем Никольского храма на о.Талабск

Причиной первого ареста старца Николая (Гурьянова) было его смелое слово в защиту уничтожаемых храмов: «Что вы делаете? Ведь это храм, святыня. Не уважаете святого — поберегите хотя бы памятник истории и культуры и подумайте о Божием наказании, которое за это будет!» Его исключили из института, начались мытарства…
За религиозную пропаганду в ожидании суда он провёл несколько месяцев в печально известной ленинградской тюрьме «Кресты». Первая его ссылка была назначена по суду в мае 1930 г. Он был отправлен в село Сидоровичи в Киевском округе. Поселившись в Сидоровичах, Гурьянов стал служить псаломщиком в церкви. Однако даже года он там не прожил. Кто-то написал донос и весной 1931 года Николай Гурьянов вновь был арестован и сослан в Сыктывкар, а затем направлен в лагерь на строительство железной дороги до Ухты и Воркуты, где он пережил страшные испытания и страдания. О лагерном периоде батюшка говорил скупо. Когда однажды его спросили, за что он сидел в тюрьме, то услышали: «За любовь, мои драгоценные! За любовь!»
Семь лет провел батюшка в заключении. Лишь иногда самым близким он открывал, что ему довелось пережить. Жизнь будущего старца не раз была под угрозой: под его нары подкладывали взрывчатку, он был придавлен вагонеткой, а в другой раз на ноги ему упал тяжёлый рельс, отчего ноги его были навсегда покалечены. Из-за болезни ног во время войны в армию Николай Гурьянов не попал. Это же уберегло его и от «угона» в Германию.
О тех страшных годах батюшка рассказывал: «Люди исчезали… ночью уводили по доносам… Я долго плакал о самых дорогих, потом слёз не стало. Мог только внутренне кричать от боли. Страх всех опутал, как липкая паутина. Кабы не Господь, человеку невозможно вынести такое. Сколько духовенства умучено, архиереев истинных, которые знали, что такое крест, и шли на крест. Всюду трупы заключённых лежали непогребённые до весны. Кто-то ещё жив: «Хлеба, дайте хлеба…» — тянут руки. А хлеба-то нет! Кормили нас похлёбкой с червями… Так было со Святой Русской Православной Церковью — её распинали». Теперь эти муки народа получили название Русской Голгофы.
Батюшка духом прозревал тех, которые, не выдержав лагерной жизни, хотели наложить на себя руки. Он находил таких, утешал и спасал от гибели.
Самой страшной была пытка, какую претерпели мученики севастийские, — стояние в ледяной воде. «Вот нам было испытание в лагере, — рассказывал отец Николай Гурьянов, — когда принуждали от Веры отречься: загнали всех верующих — и батюшек, и епископов, и мирских в холодную студеную воду. На Севере это было. Раздетые все. И так оставили на трескучем морозе, и стражу приставили с собаками. Стража менялась, а мы стояли и тихо молились. Господь помогал, я умственно совершал Иисусову молитву. Только ее и Обрадование Богородице держал непрестанно в памяти, и мне внезапно стало даже огненно горячо. Все старались поближе прижаться друг к другу, но где там! Понимали, знали, что скоро отойдем ко Господу. Кто-то совершал мысленно Псалтирь. Но устами не могли, дышать нечем, все сковывала стужа лютая. Со временем, стали коченеть и тонуть в ледяной воде. Головки, как цветочки от мороза, никнут-никнут… Потом всхлипнут только, последние судороги пробегут по всему телу — и души отлетали прямо ко Престолу Божию — мученики все… Никто от Господа не отрекся! Ангелы спускались и забирали их. А мне Царица Небесная показалась и сказала: «Не оставляй молитву, она тебя сохранит и исцелит. Я просила Господа задержать тебя на земле, это нужно для крепости Божией Церкви. Благодать Моя и Сына Моего пребудет с тобою вовеки». — Матерь Божия окутала меня таким Светом и огненным теплом, что я стоял под Ее Покровом невредимый и остался один в живых. Когда меня вытащили, привели к начальству в барак — тот уже не смеется: «Ну что, помог тебе твой Бог?!» — Я едва произнес: «Верую и исповедую Пресвятую Троицу и Матерь Бога моего!» — «Помолись там за мою дочь, тяжело болеет она» — испуганно попросил человек, думавший раньше, что он может жить без Бога». Потом Батюшка посмотрел в оконце на свой Иерусалимский дворик — и не смог сдержать слез… Плакал беззвучно, губы его слегка шевелились, он то и дело вздыхал: «Матерь Божия! Царица Небесная! Господи! Что они со всеми нами делали!.. Мы все были изнуренные, едва живые, для жилья копали в снегу ямки, делали шалашики, укрывали, кто чем — ветками хвои… Жевали их, сосеночки — хоть какая-то еда… Вот ведь какое испытание нашей Веры послал Господь!»
Батюшка говорил, что в лютый мороз, когда не было ни обуви, ни варежек, его всегда согревала молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». Когда пришло время батюшкиного освобождения (23 марта 1934 года), его выставили за ворота лагеря. Кругом полярная ночь и бескрайняя тундра. А он где пешком, где на поезде добрался в родные края. Батюшка не роптал. Часто повторял: «Не забывай никогда, даже в самые тёмные дни твоей жизни, благодарить Бога за всё. Он ждёт этого и пошлёт тебе новые блага и дары. Человек с благодарным сердцем никогда и ни в чём не нуждается».
Людмила Азаркина собирала документальные свидетельства о судьбе батюшки, которые вошли в книгу «Служитель Божий». На имя Людмилы уже после кончины отца Николая пришло архивное свидетельство о том, что батюшка был реабилитирован.
«Взбранной Воеводе победительная»
Протоиерей Борис Николаев (01.02.1931-23.04.2007)
С 1951 г. был настоятелем Свято-Духовского храма
в селе Малые Толбицы Псковского района

Батюшка принял диаконский сан в мрачные тридцатые годы. Даже пожилые люди тогда боялись и останавливали его, говоря: «Что ты делаешь? Ты же идёшь на верную смерть!» Но отец Борис не видел для себя иного пути: Господь даровал ему решимость пострадать и претерпеть муки за Него. Последовали арест по вымышленному делу, предварительное заключение, требование сложить с себя сан, от чего отец Борис решительно отказался. Его отправили в лагерь — Юрьевецкую исправительную трудовую колонию. Он провел в заключении шесть лет. О периоде жизни батюшки в заключении известно немногое: по своему глубокому смирению он рассказывал лишь то, что служило к назиданию или относилось непосредственно к собеседнику. Рассказы отца Бориса не были жалобой озлобленного человека, в них слышались благодарность Богу, вера в Его Святой Промысел, покорность воле Божией, сочувствие и уважение к ближним.
Условия лагерного заключения всем известны: изнурительный труд, голод, болезни… Батюшка никогда не старался обратить на это внимание слушающих. Он всегда пытался каждого оправдать и понять. Батюшка рассказывал: «Со всеми можно ужиться. Я шесть лет спал на соседних нарах с уголовником, жил среди людей, совершивших не одно и не два преступления, — и, ничего, слава Богу! А они и ругались, и чего только не творили. Я же делал свое дело. (Он имел в виду, что он продолжал веровать, молиться, творить добро). Уголовники — тоже люди, и у них есть совесть, и они чувствуют добро, уважение, хорошее отношение».
Один раз, в ночь Святой Пасхи, около двенадцати часов, он потихоньку вышел из барака, чтобы пропеть Пасхальный канон. По жестким лагерным законам, нарушившего подобным образом режим расстреливали, приравнивая такие действия к «попытке к бегству». Когда батюшка уже допевал канон, к нему быстрым шагом приблизился кто-то из лагерного начальства. Расстрел был неминуем.
— Стой! Кто здесь!?.. Николаев? Ты?
— Я, товарищ начальник, — ответил батюшка.
— Что ты здесь делаешь? — строго спросил подошедший.
— Молюсь, товарищ начальник. Христос Воскресе! — откровенно сказал Батюшка, понимая, что терять ему уже нечего, готовясь к смерти.
— Воистину воскресе! — неожиданно ответил ему начальник.
— Только никому ничего не говори. Быстро возвращайся в барак!
Господь умягчил сердце начальника, испытавшего уважение к вере батюшки, готового умереть за Христа. Батюшка часто повторял слова Тертуллиана о том, что душа человеческая по природе — христианка. При этом батюшка подчеркивал, что душа не просто «верующая в Бога и признающая Бытие Божие, а именно — христианка».
Батюшка, как и подобает христианину, не только добросовестно повиновался властям (будучи непреклонным лишь в вопросах веры, которую свято хранил), но и не отказывал в помощи соузникам. Он видел в происходящем волю Божию и проявлял послушание Господу через ближних.
В один год в лагере разразилась эпидемия пеллагры. Ежедневно в каждом бараке умирало по нескольку заключенных. И вот, в день празднования преп.Серафима Саровского, умерших было особенно много. Вечером заключенные пришли с тяжелых работ и разошлись по нарам. Дневальный стал подходить к каждому с просьбой, чтобы хоть кто-нибудь помог ему вынести покойников из барака. Но все, по словам батюшки, «посылали его подальше»… Батюшка, уставший и изнемогший, не отказался. Они с дневальным вынесли из барака 20 покойников. Пока их выносили, батюшка молился о упокоении душ усопших. За оказанное послушание Господь укрепил силы батюшки и ниспослал ему мир и духовную радость.
Он всегда старался поступать по совести. Однажды при раздаче мизерной платы за труд батюшке нечаянно выдали бóльшую сумму, чем нужно. Обнаружив ошибку кассира, он вторично подошёл к окошечку. Под ругательства конвоиров, которые подумали, что заключённый хочет получить что-то дополнительно, отец Борис вернул лишние деньги. Удивились все — и кассир, и охрана: в таких условиях никто не считал за грех и украсть. Факт настолько потряс начальника лагеря, что он вынес благодарность заключённому Николаеву. Но тому нужна была не похвала, а мир совести.
Приводя примеры из своей лагерной жизни, батюшка учил нас, какими нужно быть и как должно поступать, но также и объяснял, как поступать не нужно. Он говорил, что, к сожалению, не все, кто именовал себя христианами, явили себя таковыми в условиях лагеря. Например, батюшка рассказывал про одного священника отца П., который выменивал у заключенных продукты за табак, всеми «правдами и неправдами» входил в доверие к начальству, стремился к начальственным должностям (ни для кого не секрет, как этого можно было добиться, находясь в заключении), а когда достиг желаемого, то, в угоду начальству заставлял своих подчиненных работать «на износ», так что они болели и умирали. Выйдя из заключения, он добился места на хорошем приходе, стал настоятелем и снискивал себе славу «пострадавшего за веру», но дела свидетельствовали о жизни этого человека лучше любых красивых слов. «Самое страшное явление нашей жизни — это нелюбовь, немилосердие. Сатана любит людей злых, жестоких. Ведь там, где нет любви, — нет христианства, нет Божественной благодати, и зло может расти и шириться, как и сколько угодно. Православие основано на любви. «Милосердие без сострадания — это пустой звук». Это сказал не богослов, но обычный человек, артист Алексей Баталов. Но это сказано верно, потому что любое живое существо чувствует сострадание, любовь, а также и неприязнь, и равнодушие. Христианин не может равнодушно и спокойно смотреть на то, как люди страдают, как мучаются создания Божии, живые существа. Он будет делать все возможное, чтобы помочь страждущим, облегчить их страдания. А если человек ради собственной выгоды и наживы не брезгует ничем, если он не только обижает ближнего, но и не щадит его, сокращая своим немилостивым обращением его жизнь, — это не христианские поступки. Чувства ненависти в сердце христианина быть не должно».
В лагере под Ковровом произошло знакомство батюшки с подвижниками благочестия отцом Александром и матерью Ефросиньей, где они пребывали в заключении за исповедание Имени Христова. «За колючей проволокой» человека не называют по имени, а тем более в те грозные годы, оказавшись в системе ГУЛАГа, о таком понятии, как личность, заключенный должен был забыть, по мнению творцов системы, раз и навсегда: ему присваивали номер или называли по фамилии. Но фамилий этих двух людей никто в лагере не знал: все, от начальника лагеря до последнего уголовника, называли их «отец Александр и мать Ефросинья». Причиной всеобщего уважения и даже, можно сказать, любви являлось то, что их любовь и кротость покоряли сердца и гасили злобу. Они были истинными христианами. В лагере отбывало срок множество христиан, духовенство, но такое уважение, которое можно назвать всеобщим, снискали лишь два человека. Отец Александр обладал той простотой и веселостью, которые происходят от незлобия, доброты. Он не потерял эти свойства и в лагере, и к каждому человеку относился по-доброму, что весьма трудно дается в экстремальных, тяжелых условиях лагерной жизни. Он мог пошутить, знал много песен, с ним каждому было легко. Но мало кто догадывался, что это душевное облегчение было плодом молитв праведника. Мать Ефросинья, казалось, жила по правилу, данному преподобным Амвросием Оптинским: «Никого не осуждай, никому не досаждай, и всем — мое почтение». Складывалось впечатление, что все люди для нее — Ангелы, и она не видит в них ничего худого. Но это свойство нельзя было назвать наивностью: взгляд праведницы ОТРАЖАЛ ЕЕ ДУШЕВНУЮ ЧИСТОТУ. Если же она и замечала дурные поступки человека или его недостатки, то старалась всячески этого человека оправдать: «Он — хороший. Это его лукавый попутал» и т.д. Безропотное несение жизненного креста, мирность, доброе отношение, приветливость имеют большую цену везде и многоценны в очах Божиих.
В заключении батюшка несколько раз был близок к смертному порогу, но Господь хранил будущего пастыря. Однажды болезнь его приняла тяжелый оборот, и он оказался на пороге смерти. Заключенные уже положили его под нары: надежды на то, что он выживет, почти не было. Когда он лежал под нарами, то увидел подошедшую и склонившуюся над ним Божию Матерь. Батюшка узнал духом, что его посетила Царица Небесная, но, по смирению, счел себя недостойным подобного посещения… Матерь Божия сказала батюшке, что он выздоровеет, и заповедала чтить Богородичные праздники. После Небесного Посещения здоровье Батюшки пошло на поправку, силы его укрепились, он выздоровел. В память о явлении и помощи Царицы Небесной, а также и в благодарность за освобождение (его освободили в одну из суббот, а этот день Церковь посвящает Божией Матери), он еженедельно в пятницу вечером или в субботу прочитывал Акафист Божией Матери «Взбранной Воеводе победительная».
В этот день освобождалась большая партия заключенных. После того, как им выдали документы и деньги на проезд, освобождающихся построили и стали выводить через узкую калитку. «А десять лет назад мы входили в лагерь через широкие ворота», — вспоминал батюшка. У батюшки, от дней юности навыкшего богомыслию, эта калитка вызвала размышления об узком и тесном пути в Царство Небесное, явившись напоминанием евангельских слов. Порожек у калитки был довольно высоким, а ноги у заключенных за время пребывания в лагере распухли так, что первые же выходящие не смогли справиться с «препятствием» и упали от слабости, споткнувшись о порожек, а за ними полегла и вся шеренга. «Ну, ничего, — продолжал рассказ батюшка, — потихонечку мы вышли. Сил идти не было». Отойдя на некоторое расстояние от лагеря, батюшка встал, обернулся и снял шапку. У лагерных ворот стояла новая партия заключенных. Батюшка сострадая им, стал о них молиться. Смотря на входящих, осеняя их Крестным знамением, он пел: «Не ктому́ держа́ва сме́ртная возмо́жет держа́ти челове́ки: Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́; связу́емь быва́ет а́д, проро́цы согла́сно ра́дуются, предста́, глаго́люще, Спа́с су́щим в ве́ре: изыди́те, ве́рнии, в воскресе́ние» (воскресный кондак 7 гласа).
«Бог был рядом!»
Архимандрит Иоанн Крестьянкин (11.04.1910 – 05.02.2006),
старец Псково-Печерского монастыря

Иерей Иоанн Крестьянкин, фото из следственного дела 1950 г.
Дело № 3705, арестант № 13431
В 1950 г. отец Иоанн заканчивал Московскую духовную академию в Троице-Сергиевой лавре и писал кандидатскую диссертацию о преподобном Серафиме Саровском. Защитить ее не пришлось. В ночь с 29 на 30 апреля в его квартиру нагрянули следователи, а самого отца Иоанна увезли на Лубянку.
Следующие пять лет отец Иоанн провел в тюрьмах и лагерях, а вернулся с перебитыми пальцами на левой руке и в предынфарктном состоянии. «Господь перевел меня на другое послушание», — говорил он о своем заключении. Но именно это время, проведенное сначала в одиночной камере на Лубянке, потом в Лефортовской тюрьме (и там, и там его много допрашивали и пытали), затем в холодных бараках лагеря строгого режима на разъезде Черная речка (Архангельский край) и, наконец, в инвалидном лагерном поселении под Самарой он называл едва ли не самым счастливым в своей жизни. «Там Бог близко», – объяснял отец Иоанн. И еще – «там была настоящая молитва, теперь такой молитвы у меня нет».
Отца Иоанна арестовали по доносу, написанному настоятелем, регентом и протодиаконом московского храма, где он служил. Они обвиняли отца Иоанна в том, что он собирает вокруг себя молодежь, не благословляет вступать в комсомол и ведет антисоветскую агитацию.
Во внутренней тюрьме на Лубянке отец Иоанн провел почти год в одиночной камере предварительного заключения. Сохранилось малое его свидетельство о первом дне пребывания на Лубянке: «Когда меня взяли в тюрьму, оформление там долгое и тяжелое — водят туда-сюда, и не знаешь, что ждет тебя за следующей дверью. Обезсиленный безсонной ночью и переживаниями первого знакомства с чекистами, я совершенно измучился. И вот завели меня в какую-то очередную камеру и ушли. Огляделся: голые стены, какое-то бетонное возвышение. Лег я на этот выступ и уснул сном праведника. Пришли, удивленно спрашивают: неужели ты не боишься? Отвечать не стал, но подумал: а чего мне бояться, Господь со мной».
Отец Иоанн потом долго помнил эти лестницы, коридоры, угрюмый гул шаркающих ног, тюремный колодец, где периодически звучало в его адрес суровое предупреждение: «Заключенный № 13431, гуляйте без задумчивости». Нет уже живых свидетелей того времени и тех событий, но следственное дело скупо рассказывает о давно минувшем. В начале следственного дела Ивана Михайловича Крестьянкина находятся протоколы обыска и квитанции на изъятые вещи и деньги. У отца Иоанна таковых не оказалось, но зато есть свидетельство о наличии в его библиотеке 347 книг религиозного содержания. При обыске их с сугубым вниманием просмотрели, но ни одной книги и даже брошюры, изобличающей его враждебную настроенность к советскому строю, не нашлось.
Его тюремное уединение и безмолвие несколько раз нарушали «подсадные утки». Во время допросов отца Иоанна жестоко пытали. У следователя, который расследовал дело старца, было то же имя и отчество, что и у отца Иоанна, и он каждый день молился о нем. «Он все пальцы мне переломал! » — с каким-то даже удивлением говорил батюшка, поднося к подслеповатым глазам свои искалеченные руки.
Однажды следователь назначил очную ставку с тем самым настоятелем храма. Отец Иоанн уже знал, что этот человек является причиной его ареста и страданий. Но когда настоятель вошел в кабинет, отец Иоанн так обрадовался, увидев своего собрата-священника, с которым они множество раз вместе совершали Божественную литургию, что бросился ему на шею! Настоятель рухнул в объятия отца Иоанна — с ним случился обморок.
Позже, уже в лагере, отец Иоанн узнал, что прихожане бойкотировали священника-доносчика, и как-то раз отец Иоанн передал с очередным освобожденным на волю записку для них. В записке содержались Божие благословение и просьба «простить батюшку-осведомителя, как простил он, отец Иоанн, и посещать совершаемые им богослужения».
Через пять лет, когда отец Иоанн будет выходить на свободу (его осудили на семь лет, но по амнистии выпустили на два года раньше), начальник лагеря спросит у него:
– Батюшка, вы поняли, за что сидели?
– Нет, так и не понял.
– Надо, батюшка, идти за народом. А не народ вести за собой.
Осталось краткое свидетельство отца Иоанна о пребывании в Лефортовской тюрьме: «На допросы, как правило, вызывали по ночам. Накануне кормили только селедкой, пить не давали. И вот ночью следователь наливает воду из графина в стакан, а ты, томимый жаждой и без сна несколько суток, стоишь перед ним, освещенный слепящим светом ламп».
В середине августа арестанта перевели в Бутырскую тюрьму в камеру с уголовниками. Там он провел еще полтора месяца, там началось его знакомство с преступным миром, что очень помогло ему в дальнейшем.
3 октября 1950 года Крестьянкина Ивана Михайловича отправили в исправительно-трудовой лагерь сроком на семь лет в Архангельскую область в Каргополь — лагерь МВД станции Ерцево Северной железной дороги на разъезд «Черная речка». Арестантов этапировали в столыпинских вагонах. Их заполнили до отказа. Кому-то приглянулось блестящее пенсне подслеповатого соседа. Отец Иоанн долго наугад шарил вокруг, но тщетно.
Отец Иоанн впоследствии вспоминал свое прибытие на ОЛП № 16 в поселок Черный. Сам он всегда называл это место Черная Речка, так вошла она в его сознание и память по первому впечатлению. Север. Декабрь месяц. Настоящие морозы. Этапу надлежало пройти через неширокую, но поистине «черную» речку. Мост через бурлящий глубоко внизу поток был настлан редкими шпалами, на которые наросли гребни льда. Конвой с собаками шел по трапам рядом с этим зловещим настилом, по которому прыгали со своими котомками уставшие от долгого пути люди. Тех, кто срывался в ледяную пропасть реки, не поднимали и за них не беспокоились, что сбегут. Река принимала каждую жертву в свои ледяные объятия навсегда. Батюшка прощался с жизнью. Он видел, что происходит с теми, кто идет впереди, но… «Господи, благослови», и с молитвой Святителю Николаю он не заметил, как миновал опасность.
Страхи первого дня знакомства на этом не кончились. Когда подошли к проходной в зону, треск проснувшегося громкоговорителя спугнул тишину, заставив всех вздрогнуть. Сломанный допотопной техникой голос прорычал: «В этапе есть священник, к его волосам не прикасаться!» Кто мог знать, что это Божие веление о Своем служителе? Ни во время следствия, хотя арестованных брили в момент поступления в тюрьму, ни в лагере никто не посягнул нарушить этот невесть откуда пришедший приказ. Ожидание очередной грядущей беды на мгновение мелькнуло в сознании отца Иоанна и исчезло, поглощенное реальностью дальнейших событий. Этап уже растянулся по плацу, и началось распределение по командам. Еще один вражий набег пришлось испытать ему в этот день. Когда выкликнули фамилию Крестьянкина, уголовники вдруг дружно грохнули: «Это наш батя, наш!» В ответ безстрастный голос произнес: «Ну, раз он ваш, то с вами и пойдет». И перекличка двинулась дальше, оставив Крестьянкина в тревожном ожидании. Когда всех распределили, отца Иоанна отправили в барак на 300 человек с трехъярусными нарами, где преимущественно жили политзаключенные.
Первый же лагерный день показал отцу Иоанну, что такое «хождение по водам», когда идти надо только верой, ибо ты человек не защищенный. Начиналась жизнь по неведомым ему ранее законам. Этот лагерь строгого режима стал новой ступенью испытаний для отца Иоанна, и особые обстоятельства продиктовали ему образ жизни в Боге в этих исключительных условиях: «Тебя лишили Храма, стань им сам, тебя Промысл Божий послал в среду не ведающих Бога, покажи им Божии дары: теплоту искренней любви, простоту и глубину благоговения и смирения».
Отец Иоанн так вспоминал о своей работе на лесоповале: «Лагерники подпиливали, а в мою задачу входило повиснуть на дереве и повалить его в нужном направлении. И вот я висну на нем да молитву шепчу. А со стороны кричат: «Давай, батя, давай!» — а дерево ни с места. Вот такая была школа молитвы».
Незабываемым впечатлением осталась в памяти отца Иоанна первая лагерная баня, и он не раз вспоминал эту трагикомичную историю: «Получив неподъемную деревянную шайку и обмылок, все стали смывать с себя поты тюремных скитаний. Я это мыло и воду использовал, чтобы намылить голову, мне-то шевелюру мою оставили. Подхожу к баку с водой, а возле него страж из уголовников. Прошу: «Дайте водички еще». Отвечает: «Не положено». «Что же я буду делать?» — «А что хочешь». Неожиданно из соседнего бака слышу голос, в нем, оказывается, кто-то моется. «Батя, ты чего там? Иди сюда!» — это вор в законе голос подал. Иду. «Давай шайку, — начерпал, — используешь, приходи еще». Так я первый раз помылся. Остальным пришлось ходить намыленными до следующей бани».
Ко всему этому следует добавить то, как из «хлеборезки» в столовую носили на подносе хлеб под охраною самых здоровых бригадников с дрынами — иначе вырвут, собьют, расхватают, и то — как на самом выходе из посылочного отделения посылки выбивали из рук. И постоянную тревогу — не отнимет ли начальство выходного дня. А потом наложить на это вечное лагерное непостоянство жизни и судорогу перемен. То слухи об этапе, то сам этап, то какую-то темную внезапную тасовку «контингентов», то переброски «в интересах производства», то «комиссовки», то инвентаризацию имущества, то внезапные ночные обыски с раздеванием и рассматриванием всего скудного барахла. А отдельные доскональные обыски к 1 Мая и 7 Ноября, а три раза в месяц губительные и разорительные бани. И еще, потом — постоянную цепкую и порой мучительную неотделимость от бригады, когда необходимо круглые сутки, круглый год и весь протяжный срок действовать не как решил ты, а как надо бригаде…
Сначала он ходил в подряснике. Когда же подрясник «измочалился», пришлось облачиться в «одежду поругания» — грязную тюремную робу. Как у всех. Батюшка вспоминал, что ему от подобной перемены стало даже удобнее. Незаметнее.
В бараках вместо электричества были где керосиновые лампы, где лучины или фитили из ваты, обмакнутые в рыбий жир. Нары в два-три этажа и признак роскоши — «вагонка». Доски чаще всего голые, нет на них ничего: на иных командировках воровали настолько подчистую, а потом проматывали через «вольных», что уже казенного ничего не выдавали и своего в бараках ничего не держали. На работу носили котелки и кружки, даже вещмешки за спиной, надевали на шею одеяла, у кого были, либо относили все свои вещи к знакомым в охраняемый барак. А возвращались после работы промерзшие и мокрые, за ночь бы высушить все холодное и сырое рабочее — так раздетым ведь замерзнешь на голом. Так и сушили на себе. В зимние ночи к стенам бараков примерзали шапки, у женщин — волосы. Даже лапти прятали под головы, чтоб не украли их с ног.
Посреди барака стояла бензиновая бочка, пробитая под печку, и хорошо, если она была раскалена — тогда парной портяночный дух застилал весь барак, — а то, бывало, и не горели в ней дрова. К приходу заключенных огромный барак должен быть натоплен, подметен и убран. И если дежурный не успеет — надзиратель направит в карцер, а заключенные изобьют. И если бы только это. Самым страшным был тот тлетворный дух лагерной обстановки, создаваемый уголовниками, который всех держал в постоянном ожидании беды.
Уголовники не работали, это была лагерная элита. Но их нормы обязаны были выполнять те, кто не принадлежал к их клану. Кровавые разборки внутри группировок не различали правых и виноватых. Человеческая жизнь не стоила ни гроша. Уголовники чувствовали себя хозяевами. Если начальство било для воспитания страха, то уголовники избивали «отводя душу», когда вся скопившаяся ненависть и жестокость выходила наружу. Били кого-нибудь каждый день, били умеючи, с удовольствием и радостью, в основном политических. Для уголовников это было развлечением.
Лагерное начальство не конфликтовало с ними, а использовало в своих целях. Отцу Иоанну, как и многим сокамерникам, предстояло учиться жить, чтобы выжить. Зловонная матерщина была постоянным фоном лагерных будней, укрыться от нее было негде. Иногда то тут, то там раздавались взрывы какого-то утробного смеха, больше похожие на страдальческие вопли. А то, перекрывая гул, в него камнем падало зловещее слово, предвещающее конфликт и кровавую разборку. Резня была делом обыденным на ОЛП «Черный», и тем, кто сам не попадал в стихию кровавых разборок, приходилось видеть, как вытаскивают из бараков трупы. Отец Иоанн только однажды, вспоминая то время, изменившись в лице, произнес с содроганием: «Несут его, он уже мертвый, а лес рук тянется еще и еще вонзить нож, чтобы утолить разбушевавшуюся в душе стихию зла».
Лагерь особого назначения, состоящий из тысяч заключенных, оживал, начиная свой трудовой день в шесть утра. Хлопали двери бараков, заключенные выбегали на холод и пронизывающий ветер — строились для поверки. Раздавались крики, ругань, кого-то, как всегда, били. А за пределами зоны лагеря, невдалеке от него, горело несколько костров. Костры горели днем и ночью безпрерывно, отогревая мерзлую землю для братских могил, в которых ежедневно хоронили сотни умерших заключенных. Строясь побригадно в колонны, со страхом перед неизвестностью наступившего дня, заключенные шли на раздачу «пайки» и оттуда понуро, под брань конвоя, пробираясь сквозь снег, следовали до делянок — не огражденных забором участков, под строгим наблюдением с вышек вооруженной охраны. Выполняемая заключенными работа пугала непонятностью требований, безсмысленной жестокостью и непреодолимыми трудностями, создаваемыми лагерным начальством. Работа становилась невыносимой, мучительной и страшной в этом типичном советском лагере, с его изнурительным режимом жизни, с неимоверной усталостью и глубоким истощением людей, где все делалось для того, чтобы медленно привести их к смерти.
Расстояние от лесоповала до лагеря в среднем составляло шесть километров, «зэки» весь день работали под открытым небом, по пояс в снегу. Вымокшие до нитки, голодные и нечеловечески усталые. И сотни таких лагерей, подобно сыпи, были разбросаны по всему лицу советской страны.
И вот в такой обстановке, во тьме неволи, в ярме непосильного труда, потерялись годы жизни заключенного Крестьянкина. Что видел он за это время, что слышал, что предчувствовал? Тайна. Кругом был разлит яд греха и смрадных болезней души и тела, отравляющих все вокруг. Сердце священника оплакивало непостижимые пути падения человека, но все увидело и все приняло покаянным воплем за всех как за собственный, личный грех. Его молитва стала светильником посреди этой смертной тьмы. Молитвой он отдавал Богу все обстоятельства каждодневной лагерной жизни, себя и всех окружающих. Сам же сочувственным вниманием устремлялся утешать и ободрять пребывавших во мгле уныния. Размышляя о своем прошлом, отец Иоанн говорил: «Помышлял ли я о таком проявлении воли Божией? Конечно, нет. А Господь переводит меня на другое послушание — в заключение, к новому руководству, к новой пастве. Так, помимо нашего понимания и осмысления, ведет Господь по жизни нашу утлую лодчонку Своей твердой рукой».
В его письмах лагерного периода, сохраненных духовными чадами, нет ни вздохов, ни жалоб, только однажды в октябре 1951 года, когда к концу приближался первый год его работы на лесоповале, в письме мелькнуло: «Я во всем, кроме праведности, подобен Иову». Осмысливая этот тяжкий во всех отношениях период жизни, он писал на волю скорбящим и унывающим до ропота чадам: «Вся земная жизнь наша — безпрерывное чередование многих и разнообразных радостей и скорбей, происходящих исключительно по воле Божией, соответственных нашим духовным и телесным силам. При всех скорбных обстоятельствах жизни, по совету Преподобного Серафима, необходимо чаще — с должным вниманием и вдумчивостью — читать книгу праведного Иова, обратив свое внимание особенно на 2 главу. Тогда в сердце и устах наших не будет ни одного слова ропота на Господа Бога. А душа ваша, покоряясь во всем воле своего Небесного Отца, будет неустанно восхвалять Его следующими словами: «Буди имя Господне благословенно отныне и до века».
И еще одна устрашающая туча нависла над лагерным трудником: он стал катастрофически терять зрение. И не в это ли время, когда для него стал тускнеть дневной свет, Господь приоткрыл ему зрение духовное, дал ощутимо соприкоснуться миру иному? «Состояние моего зрения требует все более и более строгого режима. Пишу и читаю только с помощью лупы, так как никакими очками моя близорукость не корректируется. Но при всех моих скорбях я постоянно благодушествую и преизобилую духовной радостью, делясь ею со всеми ищущими ее. За все благодарю Господа, укрепляющего и утешающего меня, раба Своего». Кратко, очень кратко и прикровенно говорит отец Иоанн о внутреннем, щадя душевный покой своих чад, он опускал повествование о суровой и часто жестокой повседневности.
Так лесоповал стал для отца Иоанна местом, где духовно ощутил он Божие присутствие и особенную Его помощь, где во мрак, обступивший его душу и обезсиленное тело, вошел Господь, преобразив Собою увядающую жизнь. И все скорби, в том числе и лагерные, стали восприниматься им как посещение Божие. Ожили и наполнились реальным содержанием слова «сила Божия в немощи совершается». И стал он послушником Промысла Божия на всю оставшуюся жизнь.
Иркутянка Галина Викторовна Черепанова и москвичка вдова Матрона Георгиевна Ветвицкая самоотверженно подняли с ним ношу его страдальческих лет, разделили тревоги страннической жизни на приходах, служа ему от трудов рук своих. Через них отец Иоанн связывался с духовными чадами и друзьями. Они стали главными помощницами батюшки в период заключения: собирали посылки, выполняли поручения, ездили в лагерь.
Один журналист, в те же годы бывший в заключении на Черной Речке, в своей книге «Тяжелые годы» напишет о встрече с отцом Иоанном: «Когда я вошел в барак, мне бросился в глаза священник с длинными вьющимися волосами, с бледным одухотворенным лицом. Он взглянул на меня и предложил с ним покушать. Мы сдружились. Были мы на лесозаготовках, и я видел, как громадное дерево взвалили ему на плечо, и он нес его, шепча молитву».
Сохранилось воспоминание об отце Иоанне насельника того же ОЛП Владимира Рафаиловича Кабо, этнографа и писателя: «Я прочитал Библию — всю, от начала до конца. Эту Книгу книг дал мне Иван Михайлович Крестьянкин. Познакомился я с ним весной 1952 года, когда отца Иоанна сняли по состоянию здоровья с общих работ. Помню, как он шел своей легкой стремительной походкой — не шел, а летел — по деревянным мосткам в наш барак, в своей аккуратной черной куртке, застегнутой на все пуговицы. У него были длинные черные волосы, была борода, и в волосах кое-где блестела начинающаяся седина. Его бледное тонкое лицо было устремлено куда-то вперед и вверх. Особенно поразили меня его глаза, вдохновенные глаза духовидца. Он был чем-то похож на философа Владимира Соловьева, каким мы знаем его по сохранившимся портретам. Иван Михайлович — так звали его в нашем лагерном быту, так звал его и я — поселился рядом со мной, на соседней «вагонке». Мы быстро и прочно сблизились. Одно время даже ели вместе, что в лагере считается признаком взаимной симпатии. Когда он говорил с вами, его глаза, все его лицо излучали любовь и доброту. И в том, что он говорил, были внимание и участие, могло прозвучать и отеческое наставление, скрашенное мягким юмором. Он любил шутку, и в его манерах было что-то от старого русского интеллигента. Много и подолгу беседовали. Его влияние на меня было очень велико. Этому способствовало, конечно, и то, что задолго до встречи с ним я уже был как бы подготовлен к ней, а тюрьма и лагерь еще усилили мой интерес к религии, обострили во мне религиозное чувство. В словах его никогда не было ни укора, ни обличения, и тем назидательнее они действовали на меня. Я встречал немало православных священников и мирян, но, кажется, ни в одном из них не проявилась с такой полнотой и силой глубочайшая сущность христианства, выраженная в простых словах: «Бог есть любовь».
Любовь к Богу и к людям — вот что определяло все его поведение, светилось в его глазах. К нему все без исключения относились хорошо. Я не могу припомнить, чтобы было как-то иначе. Этот необыкновенный человек обладал способностью привлекать людей, возбуждать к себе любовь. И это потому, что он сам любил людей. В каждом человеке он стремился разглядеть его духовную природу. Достоинство личности было для него высшей ценностью. Человека, способного принять и понести в себе Божественный свет, он видел и в закоренелом преступнике. Эту черту отца Иоанна я наблюдал много раз, замечая, с какой открытостью, любовью он говорит с профессиональным вором, с человеком, несущим на себе тяжелый груз прошлых преступлений. В этом, я думаю, и был величайший смысл его пребывания в лагере. Блатные, и те были к нему снисходительны, но для них это было почти проявление любви. А вот и пример их отношения к нему. Однажды начальство поручило отцу Иоанну раздавать зарплату заключенным. Отказаться было невозможно. Лагерные послушания выбору и обсуждению не подлежали. И случилось то, чего и надо было опасаться, чемодан с деньгами у него похитили. Наказание известное — суд и добавление срока. Весть о его беде зашелестела по ОЛП. Через день чемодан с деньгами ему вернули полностью. Принес его сам старшой, тогда была власть блатных. Не было у отца Иоанна лицеприятия. Утешая скорбящих и болящих, он не обходил ласковым словом и гостинцами из посылок ни уголовников, ни шпану. Это продолжалось до тех пор, пока не пришел к нему их глава с приказом: «Вот что, батя, меня можешь угощать, а им, бесенятам (так величал он подчиненных), ни-ни». Видимо, батюшкина благотворительность нарушала внутренний порядок и дисциплину в их среде».
И через много лет, когда, по признанию Владимира Рафаиловича Кабо, жизнь его уже клонилась к закату, он с благодарностью вспоминал то далекое прошлое, отца Иоанна, дарованного ему Богом в лагерной юности, и признавал что два человека всегда шли с ним рядом по жизненному пути — это его мама и священник Иоанн Крестьянкин.
Что запомнилось отцу Иоанну об этом времени? Может, молитва под самым потолком на третьем ярусе нар или тайные воскресные службы в заброшенном недостроенном бараке, а может, радость в моменты, когда уважение к священнику нежданно-негаданно просыпалось в душах главарей лагерной шпаны.
Была осень 1952 года, когда по состоянию здоровья, связанному с ухудшением зрения, отец Иоанн был освобожден от канцелярской работы и отправлен в дезинфекционную камеру, выжаривать от паразитов рабочую одежду. И здесь он не только должен был проводить «санитарную обработку», то есть многочасовое пропаривание одежды заключенных в особой камере при очень высокой температуре, но и как инвалид помогать своим участием в повседневном труде: чистить снег на прилегающей территории и выполнять различные другие мелкие, вполне посильные послушания. Лагерное начальство разрешило отцу Иоанну уйти из общего барака и поселиться в землянке рядом с местом работы.
«…Спешу поделиться с вами своею духовной радостью, которой меня удостоил Сам Господь. В этом году, впервые за все время моего пребывания в изгнании, я имел возможность — хотя отчасти — встретить великий праздник Рождества Христова в более подобающей обстановке, которая возможна в условиях лагерной жизни. Своим духом и сердцем я, конечно, был в храме Божием и среди своих духовных детей, с которыми в продолжение пяти недавних лет я, недостойный, проводил в молитве эти святые незабываемые ночи. В своем же небольшом, дарованном мне Богом уютном уголке я в Святую полночь стоял в коленопреклоненном состоянии на молитве к Господу. И за себя, многогрешного, за всех моих духовных чад, за всех заключенных (тружеников и мучеников) и за весь мир, значительная часть которого была погружена в глубокий сон, позабыв Творца и Его святую волю. По окончании молитвы я вышел во двор, и при нежном свете луны и мерцании множества звезд, при полной ночной тишине, я — убогий изгнанник — призвал на всех Божие благословение. А также послал мысленное приветствие с Высокоторжественным праздником, нисшедшее из глубины моего сердца и быстро полетевшее в сердца всех любящих и помнящих меня, недостойного.
После этого была зажжена елка и началась праздничная трапеза вдвоем. Мы были объяты невыразимым простыми словами духовным восторгом и праздничным ликованием. В продолжение всего первого дня праздника я почти безпрерывно принимал приветствия от верующих и сам взаимно приветствовал и утешал их. Посылаю еще поздравительных открыток, изготовленных художником по моей просьбе. Пусть порадуются дети Божии. И вам же, мои дети, посылаю веточку со своей прекрасной елочки…» Так писал отец Иоанн о праздновании Рождества, после двух лет его заключения, из маленькой кладовки-землянки, расположенной при дезинфекционной камере, в которой ему и еще одному немолодому заключенному разрешили поселиться после ее ремонта и оборудования с конца ноября 1952 года.
Отец Иоанн, в каких бы условиях ни находился, умел создать вокруг себя особую атмосферу опрятности и «благолепия». Комната постепенно стала напоминать собой монашескую скромную келью, которая благодаря его неустанным заботам приобретала благоприятный вид. Можно только представить, что значила, после барака с запахами прелой одежды, человеческого пота, испражнений, карболки, криками надзирателей, потрясающей душу руганью, человеческими страданиями и смрадом «уголовщины», возможность такого уединения для человека, который с юных лет чувствовал в себе призвание к монашескому образу жизни.
«Что касается моего физического зрения, то оно, конечно, не улучшается, а только постепенно ухудшается, — пишет он в своих письмах родным и знакомым, — но ничего крайне опасного не происходит. По болезни глаз я освобожден от бухгалтерской и канцелярской работы. Много писать никому не обещаю, но по милости Божией надеюсь, конечно, не очень часто, я буду иметь возможность писать вам, своею собственной Иоанновой рукою, не два-три слова, а немного больше. Высылаю вам, дорогие мои, букетик засушенных цветов, в знак моей сердечной благодарности за все ваши заботы обо мне недостойном и обо всех находящихся со мною».
13 сентября 1953 года заключенный Крестьянкин был переведен в Молотовский район Куйбышевской области в село Гаврилова Поляна, где располагалось инвалидное отдельное лагерное подразделение ОЛП-1. Доходяги, как неофициально звали насельников, были заняты кое-какой посильной работой, и поскольку проку от них не было, кормили их плохо. Многие заключенные спали на голых досках, матрасы с соломой считались роскошью, бараки были наполнены клопами и вшами. Некоторые бараки были сколочены из сборных щитовых деталей. Каждый барак — по 50 и более метров длиной, в два яруса нары, две печки из бочек. Когда их топили, в бараке собирался удушливый смрад, с потолка капала вода, а стены покрывались инеем. Люди возвращались с работы мокрыми, не успевали обсушиться и мокрыми же шли на работу на следующий день. В силу тяжести труда заключенных, в лагере было много смертей. Умирали от болезней, ведь основным контингентом были тяжелобольные. Говорить о лечении или хотя бы нормальном питании не приходилось.
Зимой трупы складывали у специально отведенного барака, потом их грузили на сани, которые волокли все те же заключенные. За одну такую «ходку» вывозили от двух до трех сотен человек. Очень суров был лагерный режим, и не только физически, но и морально. В этих стенах закончили свою жизнь несколько тысяч человек. Каждый день телега с трупами отправлялась к подножью Белой горы, и их сбрасывали, как мусор, в общую безымянную могилу. Обозначать место захоронения было запрещено, даже через 10 лет после закрытия этой страшной тюрьмы от родственников погибших скрывали, где покоятся тела их близких.
Были случаи, когда заключенных убивали конвоиры. Кого по ошибке, кого при попытке побега. Какими были эти побеги? Ответ можно найти в письмах заключенных: «Один раз при возвращении с работы в лагерную зону одного заключенного пристрелили. Он, идя в строю, нагнулся к кусту малины со спелыми ягодками, но не вперед потянулся — куда идти положено, а в сторону. Вот и побег. Стрелок-солдат из внутренних войск получил 25 рублей — премию за геройство, проявленное при несении службы. А в актах о смерти писали: умер скоропостижно, или придумывали другую причину смерти».
Кроме отца Иоанна сюда в феврале следующего года был переведен из того же Каргопольского исправительно-трудового лагеря церковный писатель Анатолий Эммануилович Левитин-Краснов. Писатель вспоминает в своей книге «Рук Твоих жар» о лагере Гаврилова Поляна: «Здесь много было религиозных людей — погрузился опять в духовную среду. Много колоритных типов. Прежде всего, духовенство. Наибольшей популярностью пользовался среди заключенных отец Иоанн Крестьянкин. Человек по натуре веселый, добродушный, несказанно мягкий, все мирское ему чуждо. Он священник и инок с головы до пят. Этого достаточно и для прихожан, и для властей. Для прихожан — чтоб в короткое время стать одним из самых популярных священников в Москве; ну а для властей этого тоже вполне достаточно, чтобы арестовать человека и законопатить его на много лет в лагеря. Если представить себе человека, абсолютно чуждого какой бы то ни было политики и даже не представляющего себе, что это такое, — то это будет отец Иоанн Крестьянкин. В 1950 году он действительно был арестован. Обвинения, которые ему предъявлялись, были смехотворны даже для того времени. Так, по народной молве, ему ставилось в вину, что он на отпусте поминал Александра Невского святым благоверным князем. (Видимо, по мнению следователя, надо было назвать его — «товарищем».) Это было квалифицировано как «монархическая пропаганда». В лагере он возил на себе, впрягшись в санки, воду. Много молился. Все лагерное население к нему сразу потянулось, для многих из них он стал тайным духовником. Начальство без конца его допекало и грозило тюрьмой. Приставили к нему специального наблюдателя — из проворовавшихся хозяйственников. Запомнилась мне на всю жизнь почти символическая картина. Сидит на скамейке проворовавшийся хозяйственник, читает газету — он к тому же еще культорг в бараке. А за его спиной по площадке, окаймленной кустарником, бегает взад и вперед отец Иоанн. Только я понимаю, в чем дело. Это отец Иоанн совершает молитву. Он близорукий. Глаза большие, проникновенные, глубокие. Несколько раз, приходя в барак, заставал его спящим. Во сне лицо дивно спокойное, безмятежное. Как ребенок. Не верится, что это взрослый мужчина. Несколько раз, якобы гуляя с ним по лагерю, у него исповедовался. Чистый, хороший человек».
Сам отец Иоанн мало говорил о жестокой повседневности лагерной жизни и еще меньше — о своем внутреннем состоянии. Осмысливая Божие определение о себе, он вспоминал, как на свободе мучился вопросом, возможно ли идти монашеским путем без путеводителя, не огражденным от соблазнов мирской жизни, без вдохновляющего примера единодушных путников-богоискателей. «И теперь Господь ответил на этот вопрос: «Да, да, возможно! Иди за Мной, иди по водам житейского моря дерзновением веры, держась крепко за ризу Мою. Господь потребовал, чтобы я отринул в себе всякое представление о монашеском пути по примеру уже прошедших им. И принял путь, начертанный Его Божественным перстом».
«Веселый человек» — таким многие воспринимали отца Иоанна, это его свойство поражало и обитателей лагеря на Гавриловой Поляне и ОЛП «Черный»: как в таком месте и в таких тяжких обстоятельствах веселость не умерла, не заглохла, но сквозь безнадежный мрак надеждой высвечивалась для окружающих. «Веселость! Не насмешка, а такое солнце внутри — всему улыбается, всему добро, всему свет. Веселых людей очень мало, потому что мало чистых. Веселость есть состояние «без греха». Отец Иоанн пронес это свойство души сквозь все невзгоды жизни и часто задавал молодежи вопрос: «Почему вы не радуетесь, унываете и тяготитесь жизнью? Если бы мне Господь даровал к моим годам еще столько же, я бы и тогда не устал жить и радоваться и Бога благодарить».
И он не терял времени, жил наполненно и деятельно всегда и везде. Об источнике радости жизни он говорил так: «Я в трех тюрьмах сидел. Глядя на меня, разве скажешь это? А все прошло. Вспоминаешь как сон. До ареста служил на приходе в Москве. Всегда в подряснике ходил, только на лесоповале не смог, а так везде в нем. Шустрый был, ну и натерпелись блюстители порядка из-за меня, я везде в подряснике — в трамвае ли, по городу ли пешком. А время-то уже другое было, надо бы мне понять. Не понял! Они меня по этапу и направили. Уж чего я только не видел там! Чего только не претерпел! Все, всякие грехи к сердцу прилагались, но совесть чиста. Как зато теперь хорошо! Если бы вы знали, как хорошо про все это вспоминать и знать, что я совесть сохранил. От этого и на сердце легко и радостно!»
В феврале 1954 года тайно от брата Татьяна Михайловна Крестьянкина подала кассацию о пересмотре дела Крестьянкина Ивана Михайловича. Тогда чада стали настоятельно просить, чтобы батюшка от себя послал прошение о помиловании, на что он в письме от 26 февраля ответил им тоже отказом: «Хлопоты, предпринятые моей сестрой, я считаю излишними, а какое-либо добавление к ним со своей стороны — совсем ненужной затеей. Вооружимся лучше еще большим терпением, приносящим огромную пользу для каждого из нас, и несомненным упованием на нашего общего Ходатая и Утешителя. Да простит Он всех нас, а мы друг друга от всего своего сердца, и да увенчает полным успехом все наши надежды, возлагаемые нами на Него с истинной верою… Она научает нас приносить Богу жертву любви, всю жизнь и в радости, и в горе предавая Богу. Она научает нас принять и хранить Божии откровения, Божии обетования, страхом Божиим она оградит нас от потопа зла и нечестия, захлестывающего мир. Вера станет нам спасительным ковчегом, где кормчим будет Сам Господь, который приведет нас к вратам праведности. И исчезнет страх, с которым взираем мы в завтрашний день, ибо что такое он, этот завтрашний день, если верующему в Бога и живущему в Боге обещана вечность… Заранее и прежде-временно не составляйте никаких планов или предположений на будущее время. Да будет на все воля Господня! Ибо Им сказано: «…Кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею». «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего». Время и сроки от нас сокрыты. Поэтому усердно прошу всех вас словами святого апостола Павла «подвизаться со мною в молитвах за меня (и моих собратьев к Богу)»… «дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». «Буди, Господи, буди».
Из писем батюшки становится ясно, что он оплакивает и погибших, и губителей. Очевидно, в этом даже и был смысл его пребывания в лагере. Увидел, прочувствовал и сердцем понял находящуюся в демонической стихии родную Россию. «О, если бы мы всегда надеялись на Бога… Тогда бы все наши добрые желания никогда не оставались неисполненными», — слышали от него многие. Еще в период следствия отец Иоанн понял, что «чем скорее сердце примет Богом данное, тем легче нести благое иго Божие, и бремя Его легкое. Тяжелым оно становится от нашего внутреннего противления».
«…Именно в такие трудные моменты мы с вами должны твердо знать, что Бог есть любовь, благо, и все Им посылается для нашей пользы, а вот самого способа, которым это делает Господь, исследовать нельзя и нельзя унывать, нельзя роптать, когда не можем понять, что происходит. Именно в таких обстоятельствах являет человек подвиг веры и венчается спасением. Скорбно, тяжко и недоумение на сердце в скорбные минуты, и именно в это время как раз надо бежать нам в сердце свое — не оно ли причина туги — мое, восстающее на Промысл Божий, сердце, требующее у Бога отчета — почему это происходит так, а не иначе. Нам бы следовало запечатлеть на сердце своем единственное знание: что бы ни делал Господь, Он делает для нашей пользы, и мы всё должны принимать с благодарностью, как от благодетеля и благого Владыки, хотя бы то было и скорбное. Так делали Божии люди во все времена, этим они проходили тяготы жизненного пути».
7 февраля 1955 года Центральная комиссия по пересмотру дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления, постановила оставить дело заключенного Крестьянкина без изменения. Это был суд человеческий. В то же самое время Божие определение об иерее Иоанне возвестил Преподобный Серафим Саровский. Он явился ему с благостной улыбкой и словами: «Будешь свободен». Так суд человеческий Божиим велением был без прекословия устранен. Не посрамил Господь упования Своего послушника. Освобождение пришло к отцу Иоанну неожиданно, досрочно, в праздник Сретения Господня 15 февраля 1955 года. Срок сократили на два года. В этот день отца Иоанна вызвали в лагерное управление и вручили документы об освобождении. Начальник лагерного режима при этом задал ему вопрос: «Вот мы вас освобождаем, что вы будете делать?» Отец Иоанн ответил: «Пойду в Патриархию, так как я священник. И подчинюсь тому, что мне там скажут. А сам не знаю, чем буду заниматься. Может быть, и там меня заставят таскать в гору ведра с водой». Ведь последним лагерным послушанием батюшки было ежедневно поднимать по 40 ведер воды на верх высокой горы.
Самым дорогим и ценным приобретением этих пяти лет была для отца Иоанна молитва. Она стала его дыханием, сердцебиением, жизнью. Постепенно в ней он стал слышать моментальный ответ на любое свое мысленное обращение к Богу. Отец Иоанн иногда вспоминал, как зарождалась и вызревала в нем молитва за эти годы. Он укрывался под одеялом на третьем ярусе своей вагонки, уходил молиться в заброшенный барак, искал уединения; болтался с молитвенным воплем на деревьях, не чая остаться в живых; замирал в молитве о безчинствующих, когда рядом лилась кровь. Но однажды, в самый разгар очередного вражьего разгула в бараке, он почувствовал, что молитве его ничто не мешало. Она сокрыла его непроницаемым облаком. «Глас хлада тонка» потрясающим впечатлением вошел в душу и осенил ее неземной тишиной и миром. С этого момента самодвижная молитва запульсировала в сердце иерея Иоанна. Благодарность, славословие Господу да его смирение хранили этот Божий дар от вопрошавших и любопытствующих в тайне. На вопрос об Иисусовой молитве он отвечал, что для монашествующих — она обязательна, для мирян — желательна. В разговорах же о духодвижной молитве не участвовал. Однажды только, останавливая напористость разглагольствования на эту тему, сказал: «Чтобы говорить о ней и понимать, о чем говоришь, надо повисеть на Кресте, да еще и не знать, сойдешь с него или тебя будут снимать».
Память сердца до конца дней хранила имена многих собравшихся в синодик в то нелегкое время. Много и тех, кто, минуя заздравное поминовение, вписался сразу в его заупокойный помянник: поглощенные лютой стихией, окончившие жизнь в лесной глуши под упавшими деревьями, убиенные, зарезанные по людской злобе… Сколько же их, ушедших на его глазах озлобленными, обиженными, не узнавших истинной цены и смысла жизни, не обретших в ней Того, Кто всегда рядом и силен и властен провести даже и через сень смертную, изведя в покой и истинную радость.
Для отца Иоанна и в заключении, на этапах испытания его верности Христу не было врагов, не было людей, повинных в этих пяти годах жизни в неволе. Все совершалось по Промыслу Божию, все была милость и истина путей Господних. А Бог прав всегда. Люди же… Люди только орудия в руках Его Промысла.
О времени, проведенном в лагерях, батюшка говорил, что это были самые счастливые годы его жизни. «Почему-то не помню ничего плохого, — говорил он о лагере. — Только помню: небо отверсто, и ангелы поют в небесах!»
При Хрущеве гонения на Церковь возобновились с новой силой. Для отца Иоанна Крестьянкина это было время скитаний по приходам. Всюду, где он появлялся, звучала проповедь, восстанавливались церкви – часто вопреки официальным запретам. Священноначалие было вынуждено «принимать меры»: за 11 лет батюшка сменил шесть приходов.
После освобождения из лагеря риск вернуться в тюрьму для батюшки никогда не исчезал. Однажды это почти случилось. Весной 1956 г., когда отец Иоанн уже почти год как служил в Троицком кафедральном соборе Пскова, его невзлюбили местные власти и уполномоченный – за долгие проповеди и за то, что он благоустроил собор. Однажды отца Иоанна предупредили: «В одну ночь собирайтесь и уезжайте, иначе попадете туда, где уже были». Батюшка послушался, и, как выяснилось вскоре, не зря: его уже готовились арестовать, приписав расхищение государственного имущества.
В те годы жизнь священника ничего не стоила. В ночь на 1 января 1961 г. (отец Иоанн служил тогда в церкви Космы и Дамиана в селе Летово Рязанской области) в священнический дом ворвались хулиганы, батюшку избили, связали, заткнули рот кляпом и бросили на полу. Так он пролежал до утра, когда соседи нашли его полуживого, а через несколько часов отец Иоанн уже служил литургию, молясь среди прочих о «не ведающих, что творят»…
Спустя много десятков лет к насельнику Псково-Печерского монастыря иеромонаху Рафаилу приехал племянник, скрываясь от милиции, которая разыскивала его по ложному подозрению. Подростка привели к отцу Иоанну, и тот подтвердил: в преступлении, которое приписывают пареньку, он невиновен, но в тюрьме посидеть все-таки придется. После получасовой исповеди паренек и сам смирился с этой мыслью, но все же спросил батюшку: «а как вести себя в тюрьме?». И услышал: «Все просто – не верь, не бойся, не проси. А главное – молись».
Эта особенная молитва, которую творил отец Иоанн в условиях смертельной опасности, не осталась без ответа. Уже выйдя на свободу и вернувшись к служению, отец Иоанн стал невольно обращать на себя внимание прихожан явными духовными дарованиями – поразительным даром рассуждения и прозорливостью.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) скончался в день памяти новомучеников и исповедников российских.
Более подробно ознакомиться с повествованием о периоде жизни Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) во время его ареста и заключения в ГУЛАГе (автор С.П.Чекунов) можно по ссылке http://благовестсамара.рф/-public_page_32524