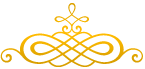Победить Русского (Ромейского) царя некому. Захватить Москву может только Антихрист. Но если сохранить православную веру, это не страшно: «посемъ чаем царства, емуж несть конца». Третий христианский Рим, непосредственно граничит с царством, которому «несть конца». Граница между этими царствами практически незаметна, и граница эта не во времени
Завоевание Константинополя турками открывает совершенно новую историософскую перспективу, в которой главной категорией становится «царство» и, конкретнее, «последнее царство». Эсхатологию «царства» традиционно возводят к книге пророка Даниила. Седьмая глава этой книги, а также созданный под её воздействием иудейский апокриф Книга Еноха, как отмечает В. Сахаров, сделались «главным источником апокалипсических идей для всех сочинений подобного рода»[1]. В [ристианской эсхатологической традиции под влиянием книги Даниила и Апокалипсиса сложилось учение о тысячелетнем земном царстве Христа для воскресших праведников, которое будет создано самим Христом по истечении 6000 лет земной истории и вечным Царем, которым будет Сам Спаситель. Это проповедовали не только еретики-хилиасты (такие, как Керинф), но и учителя Церкви – Папий, мч. Иустин, Ириней Лионский и Ипполит Римский.
Но ещё до истечения 6-й тысячи понятие Христианского царства было перенесено на империю нового Рима, созданную Константином Великим. Обновлённая христианством Римская империя была провозглашена вечной. В IV веке о христианском царстве пишут Евсевий Кесарийский, прп. Ефрем Сирин, свт. Иоанн Златоуст. Последний развивает идею Римской империи как «удерживающего» царства, препятствующего наступлению конца времен и приходу Антихриста. У Козьмы Индикоплова (VI в.) Византийская империя (новый Рим) понимается как «слуга Христова строения», поскольку в её пределах произошло воплощение Слова и протекала земная жизнь Спасителя. Конец Византии (1453 г.) настоятельно требовал объяснений в открывающейся новой эсхатологической и историософской перспективе. Такое объяснение и пытаются дать ряд русских текстов второй половины XV-первой трети XVI вв.
Строго говоря, решений возникшего историософского вопроса было два: либо начинается светопреставление, и перед лицом приближающихся антихристовых времен церковь Христова должна стать единой, как в первые века христианской истории. Либо – благодать удерживающего царства должна «перейти» на другую империю. Первое решение, понятно, исходило, прежде всего, от Римского престола. Именно поэтому вторая половина XV века отмечена целым рядом историософских и эсхатологических легенд католического происхождения.
Но и второе решение было разработано в католических кругах ещё в IX веке, в эпоху Карла Великого. Это – идея translatio imperii, которую в особенности развивает Оттон Фрейзингенский (XII век), обосновывая священный характер Священной Римской империи германской нации, государства Гогенштауфенов. Согласно этой теории, давшей собственно название государству, вечная Римская империя перешла от греков к франкам (германцам). Об этом Оттон пишет в пятой книге своей «Хроники, или Истории двух царств».
Ещё в конце XIV века, как можно видеть, категория «царства» не была усвоена русской историософией, будучи «переводной» и отражавшей реалии других культур. «Царями» называли как византийских василевсов, так и монгольских ханов. Не было представления о едином вселенском «вечном» царстве.
В 1492 (7000) г. выходит «Изложение пасхалии» московского митрополита Зосимы (1492), где Русская православная Церковь представлена в перспективе «большого» историософского текста. Зосима выделяет этапы христианской истории: первый из них – эпоха распространения христианства апостолами, следующий – эпоха «православнаго перваго царя Констянтина»[2], который принял и утвердил православную веру. Третий этап – крещение Русской земли великим князем киевским Владимиром, названным «вторым Константином». Наконец, современная автору эпоха («последняя сиа лета»), — время Ивана III, названного «новым Константином», совершающим аналогичные деяния: «веру православную яже в Христа Бога утверди, еретичьствующих же на православную веру Христову отгна, яко волкы»; Ивану III также дарован скипетр, «непобедимо оружие на вся врагы», он также покоряет «неверных» и «супостатов». Фрагмент об уподоблении эпох и связи времен введен в соответствии с традиционным «центонно-парафразным» принципом евангельскими словами: «И якоже бысть в перваа лета, тако и в последняя, якоже Господь наш в Евангелии рече: „и будут перви последний и последний перви”» (Мф. 19, 30). Здесь мы вновь сталкиваемся с основной идеей русского историософского текста как идеей эсхатологической – русские народ на «последнее время», это «последние», которые станут «первыми».
Эсхатологический контекст здесь незаменим для объяснения происходящих процессов. «Изложение пасхалии» отнюдь не случайно выходит в 7000 году. Самая обширная греческая пасхалия (расчет празднования православной Пасхи) не простиралась далее 7000 года, поскольку именно в этом году заканчивалось тысячелетнее царство Христа, должен был начаться Страшный суд над народами. Ожидание «скончания седьмой тысячи» возникло задолго до 1492 г. На Русь оно пришло от южных славян и из Византии. «Седьмая тысяча совершается, осьмая приходит и не приминет, и уж никак не пройдет» — писал митрополит Фотий. «В одной русской пасхалии, — отмечает В. Сахаров, — против 1492 г. было написано: зде страх, зде скорбь! Аки в распятии Христовом сей круг бысть, сие лето и на конец явися, в неже чаем и всемирное твое пришествие». Конец мира должен был наступить в марте, в связи с чем даже празднование новолетия в 1492 г. перенесли с 1 марта на 1 сентября. 25 марта 1492 г. заканчивалось трехлетнее господство «антихриста», которое видели в учении Схарии, главы «жидовствующих».
Но и «с окончанием 7-ми тысяч лет у нас не переставали ждать кончины мира» — отмечает В. Сахаров [3]. Через четверть века с небольшим распространился астрологический прогноз Николая Булева («Немчина») о неизбежном новом потопе, который, будто бы, произойдёт в феврале 1524 года и погубит всё человечество, в связи с чем христианским церквам надо объединиться. Московский дьяк Михаил Григорьевич (Мисюрь) Мунехинприслал иноку Спасо-Елеазаровского монастыря Филофею «философли речи Николаевы Латынина», где вопрос о соединении церквей прямо связывался с грядущим потопом и присоединением России к антитурецкой коалиции. Как нетрудно заметить, апокалипсический мотив здесь выступал в качестве прикрытия мотива чисто политического [4]. Опровергая предсказание «Латынина», Филофей в послании дьяку Мисюрю Мунехину и создал ок. 1523 г. концепцию «Третьего Рима», дезавуировав католический апокалиптизм православной эсхатологической перспективой, в которой «царство нашего государя» отождествляется с «Ромейским царством», то есть с последним христианским царством – неразрушимым, поскольку сам «Господь в римскую власть написася»[5].
Эта мысль очень тонка и непривычна для современного «просвещённого» сознания; для человека средних веков же очевидно, что, если Господь Бог воплотился в пределах Римской державы и был внесен в списки населения во время переписи (о чём сообщает Евангелие от Луки: Бысть же во дни тыя, изыде повелѣнiе от кесаря августа написати всю вселенную… И идяху вси написатися, кождо во свой градъ (Лк. 2:1-3), то эта держава (власть, понимаемая в двух смыслах – как территория «волость, область» и как правление, государство) – вечна и неразрушима. Ведь Бога нельзя «выписать» из книги, в которую Он уже раз вписан властью римского кесаря. Бог пребудет теперь в этой власти во веки веков. Возносясь к престолу Отца, он обещает послать Утешителя, Духа истины, который Церковью традиционно трактуется как Дух Святой, что и позволит самой власти стать «удерживающей», ведь именно в этой власти отныне будет пребывать Дух Божий. И сама власть, вместившая в себя Бога, становится подобна материнской утробе, выносившей Христа. Тем самым становится ясным, почему именно с IV века, то есть со времени становления «константинова» имперского христианства начинается сугубое почитание Богородицы. Культ Богородицы может быть только имперским, царским по своему характеру, поскольку Богородица символически и есть Царство, вместившее младенца-Христа.
Можно предположить, что этот пункт стал одним из первых в дальнейшем расхождении греческой и римской церквей, поскольку последней имперские смыслы христианства всегда оставались достаточно чуждыми. В католичестве Богородица должна почитаться только как образ Церкви, носящей папу-Христа. В «константиновом» же христианстве Богородица – Царство, Император – Христос, а Церковь понимается, таким образом, как Невеста Христова. Царство понимается как Брак, Семья, в католичестве же места для брака не остается, и становятся закономерными, с одной стороны, целибат священства, с другой – куртуазный культ Девы.
Здесь же и узел полемики Филофея с католицизмом. Католики, впавшие, по Филофею, в аполлинариеву ересь, учат, что Христос не принял человеческой плоти, «но з готовую небесною плотию, яко трубою, дѣвичьскою утробою прошед, ниже душа человѣчьскиа приат, но вмѣсто душа Духъ святый в нем пребывает»[6] . А из этого богословского тезиса с необходимостью следует, что «падшаго Адама и всѣх от него рожденных человѣкъ плоть не обожися, и, аще ли душа человѣчскиа не приал Господь, то и нынѣ душа человѣчскиа не изведены от адскых»[7] . Воистину здесь Филофей раскрывается как духовный писатель, старец, в современном значении. Чего стоит это блестящее сравнение прохождения материнской утробы — «яко трубою»! Итак, если Христос воистину воплотился, то есть принял человеческую плоть от материнской утробы, то плоть приобрела божественность — преображена. И, вечно пребывая в пределах империи, как в материнской утробе, Христос преображает и плоть государственную. Христос как бы «задержался» во плоти, а не прошёл сквозь неё – «в небо по трубе», как пел в свое время покойный Егор Летов, Царствие ему Небесное. Католическое же представление о прохождении Христа как бы сквозь плоть, «яко трубою», без «задержки», порождает далее особенную «ангеличность», «духовность», «небесность», «уранизм» — как в общественных институтах, так и в отдельных индивидах. Плоть понимается как «временная» стремится стать «духовной», индивидуализируется. Душа, подменяясь «духовным», согласно вещему слову Филофея, не выходит из «адского», оставаясь «от диавола пленены». Не может быть у католиков «недвижимого царства», поскольку Христос в нём не «задержался». Он вышел в небо «яко трубою», и, как бы ни тянулись к Нему шпили готических храмов, достать Его они не могут – «Где буду Я, туда вы не можете прийти» (Ин. 7: 34). Отсюда эта неизбывная тоска по недовоплощенному небесному, эта скорбь католичества, эта любовь к страстям Христовым, потому что именно в страстях Христос в последний раз предстает для католиков в воплощенном, человеческом образе. «Се, человек!» Разумеется, человек предельно индивидуализированный, психологизированный, несовместимый с такими символическими «абстракциями», как царство или хлеб (отсюда – спор о «преосуществлении»).
Мусульмане же («Агарины внуци»), покорив второй Рим, не разрушили Ромейского царства, поскольку в нём «вѣры не повредиша». Правильная вера, таким образом, по Филофею, и есть «римская власть». Царство простирается повсюду, где вера православна. Литургически различие между православием, с одной стороны, и католичеством и иудейством с другой, выражается в служении на квасном хлебе и опресноках. Первый символически соответствует обоженной плоти и царству, второй – «бесстрастной», «духовной», в сущности, мёртвой плоти, в которую Дух или ещё не вошёл, или уже вышел, «яко трубою».
Именно в такой перспективе понятен следующий ход мысли старца Филофея – собственно к идее Третьего Рима как «православном царствии пресвѣтлѣйшаго и высокостолнейшаго государя нашего, иже въ всей поднебесной единаго христианом царя и броздодръжателя святых Божиихъ престолъ, святыа вселенскиа апостолскиа церкве, иже вмѣсто римской и костянтинополской, иже есть в богоспасном граде Москвѣ святого и славнаго Успения пречистыя Богородица, иже едина въ вселеннѣи паче солнца свѣтится. Да вѣси, христолюбче и боголюбче, яко вся христианская царства приидоша в конец и снидошася во едино царство нашего государя, по пророческим книгам, то есть Ромеиское царство: два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти»[8] .
Иначе говоря, Христос Бог ныне пребывает в богоспасаемом граде Москве, сакральным центром которого является Успенский собор, посвященный не умершей плотью, а «успевшей» и зримо пребывающей здесь Матери Божьей. В этом соборе, как известно, далее будут венчаться на царство русские государи, уподобляясь Христу, вышедшему человеком из материнской утробы, и обретая тем самым обоженную царскую плоть, неотделимую от святой Русской земли.
Если историософская логика «трёх Римов» у Филофея держится на твёрдой почве исторических событий (великая схизма 1054 г., Флорентийская уния 1439 г. и её следствие — падение Царьграда 1453 г., возвышение Москвы и собирание земель вокруг неё в конце XV – начале XVI вв.), то чрезвычайно интересно его утверждение или даже пророчество о невозможности Четвёртого Рима. В самом деле, почему ему «не быти»? Это положение, во-первых, основано на том же представлении о воплощении Христа в Третьем Риме. Ссылаясь на Псалмы Давида, Филофей относит слова: «Се покой мой въ вѣк вѣка, зде вселюся, яко изволих и» (Пс. 131, 14) – к христианской церкви (нераздельной с царством), где Христос недвижимо пребывает вовек. Во-вторых, невозможность «четвёртого» вытекает из филофеевой интерпретации Апокалиптической жены, которая следует за описанием царства Третьего Рима. Третий Рим – это ещё и Жена, облечённая в солнце (Откр. 12, 1-4, 14-15). Солнечная символика встречается при описании церкви Успения Богородицы «иже едина въ вселеннѣи паче солнца свѣтится»[9] . Здесь солнце – церковь, жена (Богородица) – царство. Свет солнца – свет откровения (апокалипсиса) православной веры Христовой, которую хочет погубить вышедший из бездны семиглавый змей, пускающий водяную реку. «Воду же глаголют невѣрие» — поясняет сам Филофей. Все христианские царства потопляются от неверия (неверных), и здесь ещё один косвенный ответ Николаю Латынину: потоп, которым он пугает христианский мир, следует понимать иносказательно, и этот потоп (неверие) уже случился – и «токмо единаго государя нашего царство едино благодатию Христовою стоит».
В написанном несколькими годами позднее послании великому князю Василию (между 1524 и 1526 гг.) Филофей заострит эту мысль: «вся христианскаа царства снидошася въ твое царство, посемъ чаем царства, емуж нѣсть конца»[10] . Здесь явственен эсхатологический мотив: все христианские царства «снидошася» в одно, в этом есть знамение «последних времен». Филофей, как следует из заключительных строк его послания великому князю, относит к Риму-Москве следующее место Апокалипсиса: «Седмь главъ горы суть седмь, идѣже жена сѣдитъ на нихъ, и царiе седмь суть: пять ихъ пало, и единъ есть, [а] другiй еще не прiиде: и егда прiидетъ, мало ему есть пребыти» (Отк. 17:9-10). Семь глав змея трактуются в самом тексте Апокалипсиса как семь гор и семь царей. Москва (как Рим и Константинополь) – город «седмихолмый», царь же московский (ромейский) соответствует шестому из семи царей, который «один есть». Седьмой же, тождественный самому зверю, будет уже Антихристом, которому царствовать недолго. Поэтому и «Уже твое христианьское царство инѣм не останется, по великому Богослову…»[11]
Таким образом, победить Русского (Ромейского) царя и завоевать Третий Рим некому. Захватить Москву (на короткое время) может только Антихрист. Но если сохранить православную веру, это не страшно: «посемъ чаем царства, емуж нѣсть конца». Московское царство, Третий христианский Рим, непосредственно граничит с царством, которому «несть конца». Важно отметить, что, в сущности, это одно и то же царство, граница между ними практически незаметна: их разделяет только Антихрист, о котором в Апокалипсисе сказано загадочно: «бѣ, и нѣсть, и преста» («был, и нет его, и явится», 17: 8) и который воплощает неверие, как Христос воплощает веру. То есть, это граница не во времени: Христово царство не отодвинуто в будущее, оно непосредственно присутствует здесь и сейчас.
Поэтому Третий Рим не является утопией, в отличие от социалистического острова из современной Филофею книги Томаса Мора (1516). Утопическое понимание Третьего Рима будет характерно для Нового времени, в особенности для второй половины XIX — начала ХХ века, когда началось активное продвижение Российской Империи на Балканы, возник призрак завоевания Константинополя, а в церковных кругах говорили и о Сирии и Палестине, которые следовало бы превратить «в Владимирскую или Харьковскую губернию». Митрополит Антоний (Храповицкий) писал в частности: «Вот тогда [после завоевания Константинополя и Иерусалима – И.Б.] со всею силою проснется русское самосознание, наука и поэзия возвестят миру о чувствах и молитвах русской души, и исполнятся чаяния последних Рюриковичей и первых Романовых о том, что Московскому царству суждено быть Третьим Римом, а четвертому Риму не бывать»[12] . Третий Рим здесь – только чаяние, отнесённое в будущее время и связанное с имперскими завоеваниями. Его нет, но ему «суждено быть». Для Филофея же Третий Рим – эсхатологическое царство, которое есть здесь и сейчас, а не некий геополитический проект. Таким образом, возникающая в XVI веке историософская концепция «Третьего Рима» закрепляет за русским государством значение эсхатологического Царства. «Третий Рим», «Святая Русь» становятся доминантными понятиями в русском историософском тексте, расширяя и видоизменяя первоначальное представление о Русской земле, «последнем времени» и «новых людях». Шестой царь (после Ассирийского, Вавилонского, Персидского, Греческого и Римского или, по другой системе подсчета: Египетского, Ассиро-Вавилонского, Мидо-Персидского, Греко-Македонского и Древнего Рима) вписывает Русское царство в мировую историю, в большой историософский текст. Москве как городу, таким образом, сообщается сильное эсхатологическое напряжение. Неудивительно поэтому, что спустя несколько веков оборона Москвы дважды (в 1812 и 1941 гг.) вызовет беспримерный героизм русских людей, а в Наполеоне и Гитлере, с московской точки зрения, явственно будут проглядывать черты Антихриста.
[1] Сахаров В., Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности и влияние их на народный духовный стих. Исследование В. Сахарова.Тула, 1879. С.5.
[2] Здесь и далее цитируется по: Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVI вв.). И.: Изда-во «Индрик», 1998. – 416 с. С. 123.
[3] Сахаров В. Указ. соч., с. 55-56.
[4] Попытки подключения России к актуальным политическим проектам первого Рима начались ещё несколькими годами ранее, когда Дитрих Шонберг, советник магистра Тевтонского ордена, в марте 1519 г., изложил Василию III предложения папы, главным из которых был призыв присоединиться к антитурецкой коалиции и овладеть «константинопольской отчиной» великого князя («похочет князь велики за свою отчину костянтинопольскую стояти»). Одновременно предлагалась уния («папа хочет его и всех людей Русские земли приняти в единачство и согласие римские Церкви, не умаляя и не пременяя их добрых обычаев и законов») с учреждением Римским престолом Московского патриаршества вместо Константинопольского («Церковь греческая не имеет главы; патриарх костянтинополской и все царство в турских руках») и, наконец, коронация московского великого князя римским папой («царя всеа Русии хочет короновати в кристьянского царя»).
[5] Библиотека литературы Древней Руси. Спб., Наука, 2000. Т. 9. — 566 с. С. 296.
[6] Там же.
[7] Там же.
[8] Там же. С. 298.
[9] Там же.
[10] Там же, с. 304.
[11] Там же.
[12] Три Рима. ОЛМА_ПРЕСС, 2001. – 464 с. С. 276.